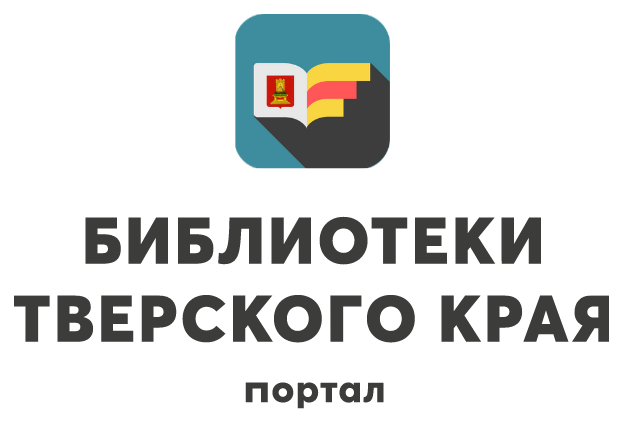Г.В. Наконечная "Святое место"
Наконечная Галина Виуленовна. Журналист, краевед, библиограф, действительный член Географического общества России. Детство и юность ее прошли в селе Камень, где в послевоенные годы ее отец, Виулен Мустивый, работал директором.

Моим родителям и жителям села Камень Весьегонского района посвящается
Село Камень умерло. Погибло. Сначала под напором невежества и необразованности, это когда закрыли Троице-Пятницкий монастырь и разогнали монашек, взорвали удивительной красоты соборный храм и колокольню. Затем — в силу амбиций и зависти, чьего-то властолюбия, когда организованный на месте монастыря Каменский детский дом был расформирован, его сотрудники разъехались по России: жители небольшого села, затерянного в густом смешанном лесу, были, вынуждены со всем своим скарбом перебираться в новые места.
Завершила торжество природа: скрыла от людского глаза под своим зеленым покрывалом святой уголок земли.
Здесь церковные колокола когда-то звонко созывали на богослужение жителей окрестных сел. Дороги, как паутинки, вели из Борщева, Чистых Дубрав, Хмельнева, Поповки, Комлева, Лопатихи, Чамерова и многих, многих хуторов.
Дети-сироты стали свидетелями человеческого варварства, увидев в лесной глуши огромные, вздыбленные глыбы извести и кирпичей, раздробленного дерева. Основание бывшего собора казалось монолитным и несокрушимым, устрашало детское воображение глубоко скрытыми под своими развалинами подземными переходами.
Местность отличалась богатством форм рельефа. Тенистые, какие-то неземные, иссиня-белые березовые рощи. Игривая, серебристая, с множеством рыбешки, неглубокая и неширокая речушка, большой «святой» камень, спрятавшийся в зарослях мелколесья на ее головокружительно крутом правом берегу, который мы прозвали Бешеной горой, так как зимой только смельчаки могли скатиться с нее на лыжах...
Правый берег круто вздымался как бы к небу и на самом верху образовывал ровную площадку. Здесь в два ряда стояли избы и немного в сторону — несколько в россыпь. Это место села мы звали горой. Говорили: «Пошли на Гору...» Жители крутого правого берега (Горы или Бешеной горы) с превосходством смотрели на наши дома и детдом, расположенные на противоположном пологом берегу. О нас говорили: «Пошли к детдомовцам..."
Наверху в летние ночи, порой до утра, озоровали деревенские дети, заливалась соловьем Лидочка Парашкина. Пела она превосходно, ее удивительный голос воспарял к звездному небу с беспредельной высотой.
Внизу соблюдался строгий режим дня: после отбоя детдом затихал. Дети войны были особыми детьми...

У камня в былые лета стояла добротно срубленная толстостенная деревянная часовня. Дорога, вьющаяся в нескольких шагах от нее и перебегающая по мосту к монастырю, приводила к камню. Он был округлым, казался отшлифованным - действовал на путников магически, «даровал» им за гроши фонтанчик «святой « воды и отпускал все грехи. Поток людской к самой таинственной часовне на Руси, как уверяли богомолки, был неиссякаем.
Шли годы. Исчезли с земли монастырь и часовенка, разнесенная верующими по бревнышку, по щепочке, а сам камень остался. Как бы затаился до лучших времен и запрятал под себя все святое и драгоценное, с обидой закрыл глаза и перекрыл источник святой воды.
Его поверхность всегда была чистой и умытой. Все, что попадало на него в лесных зарослях, легко смывалось обильными дождями. Казалось бы, время постепенно должно похоронить чудесный камень под воздействием смены погоды. Дожди, снег, выветривание много лет заботились о том, чтобы разрушить его до конца. Но он пока жив и еще виден на поверхности земли.
. Нет лишь села Камень и всего, что связано с ним.
О постройке часовни и начале возникновения Троице-Пятницкого монастыря в народе говорили по-разному. Одна версия, передаваемая из уст в уста, такова.
Где-то в конце XVIII или середине XIX веков заблудился в девственном дремучем лесу путник. К ночи он очень устал и пригорюнился.
Присел на сорванные ветки валежника и стал прислушиваться. Музыка не музыка, а что-то ему послышалось!' Какие-то небесные звуки... Вроде сверху лились. Долго разглядывал он звездное небо и полную луну. Чуда ждал. А чудо пришло не с неба. Вдруг откуда ни возьмись к его ногам пробрался тоненький ускользающий лучик света. Источник света был неблизко. Лучик то исчезал, то появлялся вновь. В конце концов деревья сжалились над путником, который долго шел, спотыкаясь, за лучом, благосклонно расступились перед ним. Он не верил своим глазам! На хрупкой, кудрявой высокой березке висела чудотворная иконка, озаряющая всю округу божественным сиянием. Тоненькая березка размахивала ветками в такт музыке, чарующей и успокаивающей. И снова ему показалось, что музыка льется с небес. Он поднял руки к небу, перекрестился, опустился на колени, ударился челом о землю, и музыка прекратилась. Березка осторожно качнулась из стороны в сторону и замерла, успокоилась. Наступила гробовая тишина. А сияние иконки стало ярче, и к утру оно соединилось с сиянием первых лучей восходящего солнца. И только тогда путник заснул крепким, очищенным от мирских забот сном, тесно прижавшись к белоствольной березке. Проснувшись, он увидел огромный камень округлой формы, из которого била струйка воды. Испил воды, она показалась ему целебной: восстановила силы и дала надежду. Камень лежал на крутом берегу неширокой реки, воды которой были чисты и прозрачны, как слеза ребенка. Догадался путник, что река питает камень.
Вскоре он поведал миру о таинственной иконе и загадочном камне. Находчивые божьи люди построили на этом месте часовню.
Гораздо позже, через много-много лет, в глухом лесу построили женский монастырь. Датой его основания считается 1895 год.'
Бывшая территория монастыря в пышных зарослях цветов и деревьев, с прямыми липовыми аллеями, березовыми рощами, где без устали пели соловьи и жили в дуплах дятлы, с заброшенным фруктовым садом, со значением разбитыми в сквериках клумбами разнообразной геометрической формы, никогда не изгладятся у меня из памяти.
Монахинь разогнали, собор взорвали. Исчез монастырь. Но не исчезло единство природы и человека. Здесь так было все продумано и так заложено, что прошлое осязалось в каждой травинке, в каждом камушке игривой речки, о нем шептала листва и шумел лес. Камень всплывает в памяти как восьмое чудо света.
Село Камень не нанесли на карты. Первоначально была учреждена женская обитель при часовне (мученицы Параскевы) с. Чистая Дубрава, а позже она переименована в Троице-Пятницкий монастырь. Монастырь стоял в лесу в пяти километрах от Чистой Дубравы. Топоним «Камень» родился в народе и нес чисто географическую информацию, с наиболее характерным признаком ландшафта, в данном случае - большим камнем, лежащем в лесу. Вполне реально, что географическое название «Камень» существовало задолго до основания монастыря...
Так как Троице-Пятницкий монастырь Весьегонского уезда не относился к старинным и знаменитым обителям на Руси, о нем быстро забыли.
Лишь в силу воображения и увиденного в детские годы, сейчас, через призму прожитых лет, можно зримо представить то творение архитектуры, творение зодчих и строителей, которое навсегда исчезло по вине безмозглых чинуш и унесло с собой много тайн.
Директор Каменской семилетки Варвара Михайловна Шондыш (школа стояла у развалин) говорила нам: «Здесь было архитектурное сокровище...» Слова учителей запоминаются на всю жизнь. Но наши учителя не говорили, почему и кто уничтожил памятники искусства. Они были очень пугливыми, боялись печальных последствий.
К школе примыкало заброшенное монастырское кладбище, заросшее малиной, сочные красные ягоды не ели даже детдомовские дети.
К середине 50-х годов хорошо сохранились четыре двухэтажных монастырских дома, в которых жили детдомовцы, «номера» и другие подворья.
Что раньше размещалось в здании школы? Если мне не изменяет память, это была людская изба, комнаты для простого народа, здесь накрывались длинные столы для трапезы богомольцев.
Один двухэтажный дом, стоящий в стороне от центральной усадьбы, «за оградой» (хотя ее давно и не было), ближе к реке, называли «номерами». Он стоял как бы в затишке, за фруктовым садом. По всей видимости, в «номерах" одна из просторных комнат отводилась на случай приезда Преосвященства или высокопоставленного лица. В комнатах поддерживалась безукоризненная чистота, по стенам были развешаны листки религиозно-нравственного содержания.
Близ основных домов были построены довольно добротные амбары для хранения товаров. Длинный сарай для сена и скотины, конюшня, амбары - все под одной крышей. Тут же, напротив сарая, параллельно ему, — погреб с деревянными вытяжными трубами. Крыша погреба покрывалась дерном, она как бы лежала на земле, вниз вели крутые ступеньки. Летом в погребе было очень холодно и пахло чем-то неземным. Монастырский погреб хорошо послужил детдому, дети называли его "картошкой".
В те далекие годы, после разгона монастыря, их на Камне осталось мало. О том времени, о тех людях, которые жили с нами бок о бок, можно писать много. И трудно писать, подавляя эмоции. Информация просачивалась, но каплями. Тогда боялись вспоминать. Старики молчали. Но кое-что запомнилось.
Как ни терялась связь между поколениями -многое рушили, как церкви, монастыри; жгли редкие книги, фото, рукописи, архивы, — тоненькая пульсирующая паутинка - воспоминание связывало еще оставшееся в живых до войны рождённое поколение.
И в наших силах укрепить эту паутинку, не дать ей порваться и исчезнуть навеки. Монахини Троице-Пятницкого монастыря посадили березовые рощи. Когда приезжало высшее духовенство, то в рощу (до рощи) расстилали ковровые дорожки. Каждодневные моленья шли в маленькой церкви. Потом — это клуб детдома.
Монастырь имел большое подсобное хозяйство, мельницу, пасеку, собирал богатые урожаи. Поля, сбегающие к реке, огороды были плодородны, хорошо удобрены. Поэтому и в детдоме собирали хорошие урожаи, летом дети свободно «паслись» на морковке.
Монашки жили на Горе (это после закрытия монастыря). Звали их уменьшительно-ласкательно — Ленушка, Катенька. Они работали, не покладая рук: стегали одеяла, тюфяки, разводили пчел и коз, лечили людей. Ленушка, например, читала возле умерших. Они получали помощь из Ленинграда и Калинина, видимо, от церкви.

Моя мама Екатерина Антоновна Егорова часто обращалась к монашкам за помощью, ей в войну с четырьмя детьми досталось, лечили ее народными средствами. Например, радикулит лечили муравьями. В муравейник опускали бутылку, обильно смазанную мёдом. Муравьи набивались плотно вовнутрь и "писали" там, получался чистый муравьиный спирт с медом. Поясница, натертая таким снадобьем, больше не болела. Монашки нам сшили тюфяки, лоскутные одеяла. Позже мама все делала сама. Они научили домашнему ремеслу: как правильно в русской печи хлеб испечь, вкусный, с хрустящей корочкой, и чтобы он хорошо сохранялся в холодной кладовке с неделю или больше; как приготовить сыр или пышные булочки из натертой на терке картошки, как солить капусту с яблоками.
.Мы ходили к ним мыться в «черную баню». Полати, скамейки и пол в ней — белы-белехоньки от частого мытья и скоблежки голиком с речным песком или красным кирпичом, растертым в крупу. Потолок и стены черны от сажи. Котел с водой обложен большими камнями. Над старинной сказочной печкой-печуркой - дыра в небо. Предбанник без крыши: зимой одевались на стуже, под звездами — после настоящей русской бани с березовым веником никакой мороз не страшен.
Летом мама меня обязывала вязать веники для какой-нибудь монашки. За неимением в семье лишних денег мама платила монашкам вениками за их житейскую помощь, мудрость. У монашек было много козочек, а это,- мясо, молоко, шерсть. И козы любили "венички".
Монашки по тогдашним моим понятиям были очень старенькие и бедные. Работали от темна до темна при лучине. Щепать лучину они, бывало, и нас учили. Знали, какое взять полено, чтобы щепа получилась на всю длину и вышла пружинистой, неломкой...
Вкусной получалась у монашек и сера, когда ее жуешь, она без конца щелкает. Мы ходили в лес, собирали янтарную смолу с елей и сосен. Они ее варили и расплавленную сливали прямо в снег в утрамбованные лунки-формочки или в специальные баночки со студеной водой. Сера получалась разного качества, цвета и формы, но неизменно притягивала нас ароматом и новизной. Она утоляла голод и хорошо очищала зубы. Мне кажется, кто жевал в детстве такую серу, сохранил зубы до старости. Серу "лесную" любили и взрослые.
' Мы, дети, монашек побаивались, они были всегда в черном, и относились к ним с благоговением. Никому в голову не приходило их дразнить, тем более обидеть чем-то или обмануть. Откровенно говоря, я со страхом проходила мимо некоторых изб.
По рассказам монашки Катеньки, она попала в монастырь по прихоти отца. Жила в Столбищах и любила хохотать по девичьей беспечности и природной смешливости. Отец боялся, что беспутная вырастет. Монастырь - все догляд. Но и в монастыре Катенька осталась хохотушкой. Здесь она выполняла только черную работу, за свиньями ухаживала. Возле матери-игуменьи «хитрые» ходили, наушничали, чистую работу делали.
Когда монастырь закрыли, монашек арестовали и повезли в ссылку в товарных вагонах. В Москве — остановка. Видят они, начальник ходит, в кожанке и с наганом. Подошел к ним и спросил:
—Кто вы?
Ответили перепуганные и голодные монашки, каким вдолбили:
—Политические мы.
—А что такое политика? — хмурил брови начальник и смотрел на монашек строго и как-то насмешливо.
—Этого мы не знаем, — хохотала Катенька.
На нее шикали, крестились, совсем перепугались бедные инокини. И озадачили начальника с наганом. Он, не долго думая, отпустил их на все четыре стороны. Нашелся все-таки умный человек! Немногие добрались до Камня, святого места.
У всех старушек на Камне снимали квартиры эвакуированные, ссыльные, ученики со всей округи, из деревень Вошкино, Максимцы, Ермолкино, Поцеп, Ананьино, Старое и других.
Камень славился хорошей школой, кирпичной, теплой. Каменская семилетка пользовалась авторитетом у начальства. Учителя в школе уважали монашек, иногда у них останавливались на ночлег в непогоду. Учителя приходили на уроки заснеженные и грели руки у печки, так как некоторые жили от Камня далеко, за 5-7 верст, и каждый день проходили километры.
Четко стоит в памяти семья святого отца Николаевского. Мать Ленушка имела дочерей Симу, Риту, Галю, Алю и сына Веню. Батюшку Николаевского сослали в лагерь, и он сгинул без вести. В их доме было пусто, чисто и преголодно, крыша текла. Кормились большим огородом. Я дружила с Алей. Наперекор голоду, нищете она была жизнерадостной девочкой. Часто я тайком таскала им продукты. У нас была корова, чушка, разная птица, мед. Мама, хорошая хозяйка, готовила все впрок.
Не ем иногда что-нибудь несколько дней, откладываю. Зимой легче: хлеб, луковицу, мясо спрячу в снег, поглубже, и радуюсь своей тайне. Бегу к ним вечерком попить чая морковного, несу подарок. Мать Ленушка спросит:
-Мама знает?
-Конечно, нет!
-Грешно! Неси обратно!
-Не понесу и все!
-Не возьму и все! Но все-таки возьмет, а руки трясутся. Когда умерла .... (?), мы собрались у гробика и шептались: слышит она нас или нет. Мать Ленушка вышла из-за перегородки и говорит:
-Спасибо, что пришли. Она всё слышит, но говорить не может.
Ее слова ранили мне душу, я много лет считала, что людей хоронят, заснувшими от боли, болезни, живыми.
Мать Ленушка не плакала, не жаловалась, ходила тихо, медленно, покачивало ее от слабости. В детдоме иногда из жалости давали ей работу на кухне. Но она была больная-пребольная, вся светилась от худобы, большие синие глаза блестели лихорадочно, и врач Нейман строго-настрого предупредил администрацию, чтобы ее не допускали к детям, иначе будут большие неприятности. Ленушка погибла от чахотки. Алю на лето брал к себе доктор Нейман в Чамерово, чтобы прокормить хотя бы ее, помочь семье.
За одной парализованной монашкой ухаживала Анна Ефимова, но о ней особый разговор.
Рядом с нами жила баба Матрена, колоритная фигура, маленькая, полная, в темных развевающихся одеждах, часто сердитая, с недобрым сердцем. В монастыре она была вроде сторожем, монашкам от нее доставалось. Мы дома на чердаке держали белку, раненую дикую утку и хромую ворону. Она всех погубила. Ворону, когда она слетела с чердака, повесила на огороде, объяснив: "Цыпленка стащила". Реву было. Белку посоветовала закрыть в плетеной корзинке. Крышка была плетеной. Белка задохнулась. Дикую утку поймала, когда мы ее пустили в реку. Сказала: рано, пусть у меня живет». И утка попала в ее нок.
Сиднем сидела у нас и рассказывала страшные истории из жизни монашек. Приходила всегда с новостью сногсшибательной.
— Катя,— обращалась она к маме, вот-те крест, своими глазами видела, как у вас из нечистый вылетел.
Я холодела. Мама отворачиалась к печкеКак- слышит у крыльца какие-то стоны.
-Я намедни видела, как твои робятишки, Катя, песочек принесли и рассыпали у крыльца. Убери песочек. Его от кладбища принесли. В нем и ноготочки умерших могли быть, а вы по ним ходите, — посоветовала баба Матрена.
Мы лихорадочно вымели и вычистили землю вокруг дома. Стоны прекратились.
Действительно, около кладбища, на зеленой лужайке, была небольшая лысина из чистого желтого песка, его-то и облюбовали мои братья для игр. Собранный песок водворили на место.
Баба Матрена вечно проводила с детдомовцами бартерные сделки. Они ей конфетку, она им — соленый огурец или кочерыжку. Иногда к ней приезжала внучка из Ленинграда с редким именем Ара.
Бабуля подбирала все, что плохо лежит. Но поленица наша была за забором прочным. За дрова отвечал средний брат Людвиг. Старший занимался охотой, приносил дичь, но и заготовка дров была его обязанностью. И вот стали замечать, что поленица тает с каждым днем с того конца, к которому не прикасаемся.
В морозный день, вернее, ранним утром, вбегает к нам бабка Матрена, вся в золе, саже, лохматая, Баба Яга и только.
-Катя, — кричит маме, — нечистый в печке завелся, все горшки выкинул, золой засыпал.
Боится домой идти. Мама сбегала за одной женщиной, и втроем они вошли в дом. Действительно, на кухне валялись чугунки, потухшие дрова, зола, угли. Зашелестели языки: «Нечистый в печке завелся».
Через много лет, когда головы моих братьев стали седеть, они признались маме в своем грехе, что вбили в одно полено патрон с порохом и положили его на тот край поленицы, где пропадали дрова.
«У меня такое светлое, теплое воспоминание о них. Какие интересные были люди в такой глуши. Позже пошли одинаковые — это уже наше время», — так писала мне школьная подруга. И она права.
Детей из детдома окружали прекрасные люди. На Камне (после монастыря) все шло от детдома, вся жизнь с ее радостями и печалями, дружбой и пересудами.
Все взрослое население Камня занималось детьми детдома — хотели быть ближе друг к другу. Кто приехал, кто уехал — знали. Знали судьбы детей. Перед ними были дети войны, с ранимой психикой, тяжелыми воспоминаниями (у одной девочки немецкий танк раздавил маму у нее на глазах, и она никогда не улыбалась), жаждущие найти родных и близких, дающие меткие прозвища взрослым.
Очень благородную веселую воспитательницу Александру Ивановну прозвали Бомбой, работника склада — Минометом.
Немецкий язык вела Тамара Ардальоновна. Муж ее Николай Петрович, бухгалтер, был выслан из Ленинграда на поселение. Она — дочь чиновника высокого ранга в Петрограде. Закончила Смольный институт благородных девиц («Смолянка»). Много путешествовала по свету и еще преподавала географию. Домашнее хозяйство не вела, не умела, совершенно не приспособленная к быту. Помогала ей по хозяйству тетя Даша Кротова.
У деликатной, уважающей даже букашку, Тамары Ардальоновны ученики срывали уроки, звали ее Хэфтой. Они не хотели учить немецкий.
После «разгона» Камня учительница купила с мужем дом в Хахилеве (Чамерове). Когда муж умер, она стала жить одна. Как? На что? Кто ей помогал? Могут, пожалуй, ответить ее бывшие ученики из Чамерова и других деревень. Думаю, все ее запомнили. К сожалению, мы не запоминаем фамилии наших учителей.
Все уважали отличного педагога Александру Алексеевну Козлову, дети у нее Юра и Галя. Они уехали в Весьегонск, и она преподавала в сш № 1 или 2.
Надежда Васильевна, статная, красивая, с большими карими глазами, очень строгая, в любую погоду приходила на уроки со стороны д. Борщово. И мы все удивлялись, как она не боится идти лесом одна. Ее уроки были незабываемы, музыкальны и радостны, как праздник. Преподавала она литературу и русский язык. Ее выразительные глаза без слов заставляли нас подтягиваться до ее уровня, они воспитывали, укоряли, насмехались. Одета она была всегда безупречно. Я на всю жизнь запомнила, с каким презрением она посмотрела на мои широкие шаровары (тогда модные). Придя домой, я их забросила на чердак и стала ей подражать во всем, как могла это сделать в те ранние юные годы.
Много повозилась со мной Виктория Васильевна, мне пришлось за год преодолеть программу двух классов.
Интересной особой слыла "буржуйка" Анна Ефимова. Она ухаживала более десяти лет за парализованной монашкой. Тетя Липа раньше (до Камня) служила горничной у барыни, богатой дочери весьегонского купца. Та научила ее читать. Липа вывезла часть библиотеки хозяина после отправки его в Сибирь. Постоянными читателями у нее были Дина и Лида Парашкины. Дина стала врачом, Лида — биологом, ученым сотрудником НИИ. Обе живут в Новгороде.
Старые журналы «Нива», «Всемирное обозрение», богатые иллюстрациями, будоражили юношеское, воображение. Русские писатели, такие, как Мельников-Печерский, прививали любовь к простым житейским народным приметам, знакомили с русским бытом и нравами. «Буржуйка», умная от Бога и природы, любила сталкивать людей лбами, скандалы, которые вызывали не злобу, а веселье и повод посудачить, особенно в долгие ранние зимние вечера на посиделках при керосиновой лампе или при лучине. Анну запомнить можно только по одной ее великолепной артистичной игре в пьесе Островского «Гроза», в главной роли Кабанихи, на сцене детдома. Играла она на «бис». Самодурство запомнилось через тетку Анну.
Главный врач Чамеровской участковой больницы Александр Алексеевич Нейман много времени отводил детдомовским детям. Его считали чудаком, так как он один в округе ел какие-то презираемые всеми грибы. Он был выслан из Ленинграда, семья от него отказалась. Брат его был сослан на Север. Человек он был добрый, с юмором.
Я заболела скарлатиной и положенный карантин отбывала в его больнице. Скукота и тоска. Строгая дисциплина. Болеешь три дня всего, а держат бесконечно. И вот я ему заявила:
-Завтра я сбегу домой. Я не болею! Он мне ответил приблизительно так:
-Если сбежишь, заразишь весь детдом. И твоего отца тоже арестуют, ушлют далеко-далеко, как отца Али Н.
Что такое «арестуют», мы знали. Помню, папа пришел домой и говорит маме:
— Её арестовали прямо на обходе больных, чтобы, все видели. А она им очень просто сказала: «Я вас ждала... Только не здесь...»
Речь шла о женщине-враче из Кесьмы или Овинищ...
Дети Каменского детдома были разные по возрасту: первоклашки, семиклашки, переростки — война все перепутала.
Мальчика с пальчик Гену ставили на стол, чтобы его все видели, и он звонко пел: "Позабыт - позаброшен..." Взрослые утирали слезы.
Прихрамывающий Паша навязчиво заглядывал взрослым в глаза и вопрошал: "Найдите мою маму?"
Девушка Тамара Дударова с поседевшими под бомбежкой волосами с одной стороны головы; у нее были седыми одна бровь и ресницы одного глаза, ранена кисть руки. Стала геологом. За ней потянулись в Новочеркасский геологоразведочный техникум Аля Забулис, потерявшая родителей в блокадном Ленинграде, и Галя Соколова.
Гена Трофимов окончил техникум в Ярославле. Ваня Чуйкин стал летчиком, Шура Новикова — медсестрой, Люда Валивач - педагогом музыки (Калининское музпедучилище), Надя Громова -сыроваром.
Хозяюшка Тамара Чурилина любила работать, клеить обои, живет в Москве, вдова, два сына.
Чернобровая Надя Курицына уверяла всех, что ее мама была знаменитой актрисой, пропала без вести, и она станет искать маму всю жизнь.
Их было много... Мы привыкли друг к другу. Когда приходила разнарядка из Калининского облроно, сколько детей отправить в РУ (ремесленное училище), сколько в ФЗО (фабрично-заводское обучение), папа хватался за голову. Попробуй, не выполни распоряжение! Но кого? Кто учился плохо — малолетки. Отличников надо бы довести до техникума. Это были самые тяжелые и печальные дни для воспитателей. Думали все вместе, советовались со школой...
Летом работали на огородах. "Паслись" на морковке: её сажали много, чтобы наелись "от пуза". Собирали в лесу ягоды и грибы. Зимой — санки и лыжи, сами строили самокаты.
Комнаты боролись за звание "Лучшая комната". Девочки много вышивали думочек, накидочек. На тумбочках были разложены разные поделки, самодельные куклы, открытки, фото близких. Комнаты девочек блистали чистотой и были очень нарядными.
Детдом часто занимал первое место в смотрах по образцовому порядку и художественной самодеятельности. Дети и взрослые были монолитны. Ставились серьезные вещи на сцене. Среди детей были танцоры,чтецы, акробаты, певцы, художники. Много талантливых детей было. Вечерами — неизменные танцы под баян. Любили танцевать все. До упаду. Вальсы, танго, "коробочку", "краковяк", "яблочко" и еще разные - с притопом и прихлопом. Мальчики не стеснялись приглашать девочек. Модно было писать друг другу записки со стихами. Записки терялись, воспитатели и учителя их находили, деликатно искали авторов, но, конечно, никто не признавался. С замиранием сердца ждали Нового года, маскарада.
Моя мама учила девочек шить и вышивать. Она обшивала всю нашу большую семью. От трусиков до пальто - все делала сама.
И ещё она хорошо пела. Её голос слышали многие в Калининской области, сильный, красивый, заливалась соловьем. Мы, четверо детей, помешали ей закончить консерваторию, не одобряли пристрастия к пению и её родители. Природа наградила её прекрасным голосом. Она и в преклонном возрасте пела на сцене, уже в Кимрах ходила в художественный кружок, вместе со мной.
Порядок и чистота были заложены на Камне еще Троице-Пятницким монастырем, детдом продолжил традицию содержать здания и усадьбу в чистоте.
Летом проводили общие большие игры в "индейцев": все дети делились на "краснокожих" и "белокожих". Выбирали очень теплую пору, чтобы после игры отмыться в реке от красок, наложенных обильно на тело, топили баню. Лес оглашался вперемежку индейскими и тарзаньими воплями.
Будоражила всех игра "Поиск клада". Ходили по разработанному азимуту. Где только ни лазили: в лесу, в сараях, в реке, на крыше, обнюхивали; кажется, каждый куст... Когда получали долгожданный "приказ": "Вперед, налево, очень горячо!" - знали, что ищем совсем рядом. Ящики с пряниками и конфетами были огромными,на триста душ хватало лакомств, одаривали друзей. К финалу приходили не все, уставали, но угощались все.
Два события стали почти легендарными. На детей напала скверная глазная болезнь - трахома. Лето было жаркое, много купались, видимо, инфекция пришла с водой. Папа забил тревогу, сам съездил в Москву, вытребовал хорошего окулиста, лекарства. И вот мы узнали: врач прилетит на самолете "кукурузнике". Площадку для посадки выбирали толпой, кто прознал — все прибежали. На стороне Бешеной горы нашли ровное поле, расстелили белые простыни буквой "Т", как просил летчик по связи. Прилетел самолет. Мы, как саранча, облетели вокруг поля, он погудел-погудел над нами и понесся в обратную сторону за монастырское кладбище, там тоже было обширное поле, и не лучше, как решили зеваки, а летчик выбрал её. Мы кубарём скатились с Бешеной горы, бежали, падали, орали. Когда прибежали к самолету, летчик и врач сидели на стерне и вели беседу с одним дедом, который «угадал», что это поле "надежнее".
Прибежала к самолету даже баба Ворокута, считавшаяся парализованной. Такое чудо свершилось в лесной глуши: рокот самолета над головой избавил старую женщину от "лежачей болезни". Ей сообщили, что все бегут на кладбище, и она решила, что и ей пора туда. Много ходило шуток по этому поводу.
После того даже время стало определяться словами: "это было до самолета", "это было, когда самолет уже улетел".
Второе событие, не менее трагикомическое. У директора школы милой, доброй Варвары Михайловны Шондыш украли ночью корову. Она прибежала к папе в темень с плачем. Трое детей, двое —студенты, одна их поднимает, а корова после вой'ны — первая кормилица. Папа собрал мужчин и старших мальчиков, взяли ружья и пошли в лес. Корову нашли быстро, она отозвалась "му-у" на свою кличку. Стояла у землянки и жевала свежую охапку сена. Рядом с ней сидел беспризорник и прямо из ведра пил молоко. Он был в лохмотьях, грязный. В нем признали детдомовца первого заезда. Мы ходили смотреть на него, как на диво. Его увезла милиция.
Когда мороз-воевода дозором обходил владения свои, в детдоме царили тишь и благодать. Но летом! Летом просыпались неведомые силы, возникали невероятные недоразумения.
Четыре двухэтажных здания стояли напротив друг друга и образовывали квадрат. Если дома по центру соединить прямыми линиями и продолжить их концы под прямым углом, к бане, школе, "номерам" и подсобным постройкам, (сараям), то получится крест, похожий на свастику. Особый знак - одно из древних орнаментальных мотивов, встречающихся на многих произведениях искусства. Символика свастики до сих пор точно не объяснена. Многие видели в ней символ солнца и плодородия, что для нашей местности было подходяще. Красивый соборный храм в лесу и монастырь несли окрестным селам свет разума и дары милосердия, учили жить честно, много трудиться .
Во внешних нишах с крестами на кирпичном здании тоже, без сомнения, была заложена определенная символика.
Дети и взрослое население здесь жили, можно сказать, в мире привидений. Что только не виделось и не чудилось им в лесных шорохах и шепоте реки, уханье в рощах филина и равномерных ударах дятла, капризном куковании кукушки. Ко всему прикладывались суеверия и приметы. Сколько фантазии было у детей: и ведь видели», «слышали»!
Поговаривали, что четыре монастырских дома соединены собой подземными переходами, главный подземный переход начинается под собором, от него ведет туннель к колокольне. Все эти переходы, если их начертить по легенде, образуют квадрат. Пытались копать руины, но где там было! Глыбы не поддавались и ломику. Технику в округе было не сыскать!
Не было человека, с кем бы чего-нибудь не приключилось. Однажды ночью девочки большой спальни все оказались лежащими на полу, топчаны (позже привезли кровати) разом зашатались, как при сильном землетрясении, и девочки во сне слетели с постелей. Проснулись утром – ничего не поймут.
Перед одним из престольных праздников дети обнаружили под своими подушками молитвенники и крестики.
Как-то испуганная дежурная воспитательница громко забарабанила в наше окно. Непроглядная темень, и лил дождь. Папа с мамой пулей вылетели из дома и побежали с ней к центральному зданию, где был клуб. Воспитательница их убеждала, что на каждой кровати, когда она вошла в спальню, горели свечи, а дети спали. Когда они все вошли в комнату, дети спали, но свечей не было. Дымок и запах свечей витал отчетливо. В клубе с колоннами, балконом, высоченным потолком, куполообразным (при монастыре — маленькая церковь для каждодневных молений), он был частью центрального здания, под сценой во время праздничного спектакля дети нашли красивые мешочки из темно-синего бархата высокого качества. На мешочках золотыми нитками были вышиты кресты и таинственные латинские буквы. Я помню, как они лежали у нас на белом, выскобленном кухонном столе. Ждали нарочного из Весьегонска. Так не хотелось мне, чтобы мешочки увезли, очень красивые были. Нарочный приехал и забрал их, строго настрого приказал молчать всем, кто видел. Тогда вся жизнь окутывалась секретностью и тайной. И молчали всегда. И забыли о них. Только сейчас я о них вспомнила, когда пишу эти строки.
Вскоре мы с мамой заболели. Она покрылась сыпью, а меня мучило горло, трудно было дышать. Мама из женского любопытства развязала один мешочек, и мы несколько минут разглядывали серебристую пыль, даже понюхали. Папа сказал, что, возможно, из порошка делали краску для церковных нужд.
Конечно, многие привидения были реальностью детских проказ. Когда летом делали ремонт, дети вместе с воспитателями спали в огромном клубе. Старшие пугали младших покойниками, укрываясь простынями и воя. Под полом, по словам очевидцев, были захоронения. И кладбище — под боком, в нескольких шагах. Безусловно, боялись. Поэтому дети особо не рассыпались по округе, ходили кучками.
Для многих было пыткой, когда терялись ручки, и учителя отправляли учеников прямо с урока к кладбищу наломать стеблей малины. В мякоть внутри стебля легко и надежно входило перышко, малина, ее стебелек, заменяла ручку. Школьные принадлежности после войны были дефицитом. Когда мне на день рождения дарили тетрадь и карандаш, я сияла от счастья.
За мной один раз катился огромный, больше футбольного мяча, огненный шар в длинном темном коридоре кирпичного здания. Окна в нем были, как в церкви, высоко и узкие, всего два. Я бежала бегом, и он меня настигал. Добежала до конца, уткнулась головой в угол и зашептала молитву, как учила баба Матрена, когда страшно. Возможно, от испуга я потеряла сознание. Очнулась от прикосновения папиной руки. Шар мог быть и шаровой молнией. Местность потрясали летние грозы, частые и опасные, молнии попадали в высокие деревья и шесты с хмелем, расщепляя их. Грозу, как и многие дети, я боялась. Нас учили её бояться ... Однажды летом я была одна дома. Дверь из сеней была на крючке. И вдруг я услышала страшный шум в сенях: что-то гремело, падало, громыхало. Я бросилась в комнату к окну, выходящему в сад, на пол уже летели горшки с цветами. Выпрыгнув из окна, не заметила, как порвала руку гвоздем, перемахнула одним прыжком через тын — и на работу к маме. В мастерскую примчалась очумелой, с криком: "Дом рушится!". Прибежали люди, оглядели дом, дом в порядке, ничего не валяется...Что со мной было, так и не поняла ни я, ни взрослые...
На моей правой ноге, ближе к ступне, есть широкий, давно заживший шрам. Болезненный, будто вчера затянутый пленкой. На ногу, около монастырского овощехранилища, упала доска с гвоздем', глубоко пропоров её, была ушиблена и кость. Рана болела долго и сильно, перевязки были мучительны, никаких обезболивающих лекарств тогда не применяли. При последней перевязке, когда от раны отдирали присохшие бинты, я потеряла сознание, и мама запретила медсестре накладывать очередные бинты. Сказала: "Дайте ноге отдохнуть". Я спала с непокрытой одеялом ногой.
И вдруг ранним утром, при восходе солнца, я внезапно проснулась от страшного беспокойства. Почувствовала, что кто-то на меня смотрит. В углу комнаты в полу был прорублен для кошки лаз в подпол. Из этого лаза высунулась странная пепельная голова в пупырышках и с огромными глазами. Глаза становились все больше и больше, они смотрели на рану. Я онемела, лежала без дыхания. Потом от головы потянулись длинные, такого же цвета руки. Тут уж я закричала во все легкие: "Мама!" Мама подбежала ко мне, я тычу рукой в угол на лаз и не могу слова сказать, вижу, голова утекает в подпол, руки — за ней. "Там были чьи-то глаза страшные", — только и сказала я маме. А она, измученная и испуганная моим воплем, ответила: "Господи, как я устала от ваших привидений!".
Через день-два нога моя зажила, ранка подернулась пленкой, как тоненьким ледком прорубь...
Много-много лет спустя, вспоминая это видение, я придала ему уже определенное значение.
Был не менее любопытный случай. В выходной день я с подружками пошла на лыжах в соседнее село к однокласснице Руфе. Расстояние не менее 5-7 километров. Дети в школу на Камень приходили издалека: одни предпочитали снять квартиру, другие, более крепкие здоровьем, каждый день преодолевали большие расстояния, на ходу решались задачки и все, что задал учитель. Подружки решили переночевать и вместе с Руфой вернуться к занятиям. Я запротестовала: дома меня ждут родители, и если я не вернусь сегодня, они начнут меня искать. Держали нас строго, пообещал — выполни. Подруги не обратили на мои слова внимания.
Я решила возвращаться одна. Дело шло к вечеру. Зимой рано темнеет. Мать Руфы отговаривала. А я думала только о маме, как она будет страдать, если я не вернусь. Ну что ж... Пожалели меня подружки и посоветовали ехать напрямик, наст хороший, лыжи побегут быстро. Не успела я выбраться из деревни, как навалилась темнота. Пронеслась лесом, оврагами, вышла на поле, где садился самолет, была уже на середине его, когда поняла, что впереди, в тумане, кладбище, идти надо через него, никуда уж не свернешь, слишком поздно. И меня охватил неописуемый ужас. Я приблизилась к запорошенному снегом кладбищу чуть живая..
Очнулась возле своего крыльца, от удара собственных лыж о ступеньки, будто кто-то сбросил меня сверху, как грохнулась о землю. Так и не поняла, как с середины поля я сразу оказалась у своего крыльца, минуя кладбище и территорию детдома. Забарабанила в дверь. Все спали. Никаких огней. Родители рассказали, что вечером всполошились, обежали подружек и поняли, что мы остались ночевать. Не поверили, что пришла одна. Но факт. "А как ты по кладбищу одна?..." — мама аж запнулась. "А я на нем не была", — уверяла я. "Как же?" - "Да просто. Не была и все. Меня кто-то поднял и перенес через него к дому".
Честно говоря, я так и не поняла, что было со мной. Как подсчитали, я была отличной лыжницей, с середины поля до крыльца дома при самом медленном скольжении я бы потратила не более 10-15 минут, а у меня ушло на это часа два. Решили - что-то я перепутала, заблудилась. Но смешно заблудиться в трех соснах, как язвят лыжники. Окрестность мы знали лучше своих пяти пальцев. Мама не могла понять, где я была столько времени, можно было до Весьегонска дойти. "Ну и шуточки у тебя!" - крутил головой старший брат. Я не могла рассказать об ужасе, который испытала у кладбища, чтобы мама не волновалась, а в этом возрасте так хочется казаться смелой.
Мы воспитывались на примерах героических подвигов. Прошли годы, и до сих пор не знаю, где я пропадала в ту зимнюю ночь. Возможно, без памяти, которую временно потеряла от страха, колесила где-то поблизости от дома, но не выбилась из сил, не замерзла.
О нем писали в народной газете "Кимрский вестник" (от 19 января 1993 года, статья "Источник добра"). Чтобы не быть субъективной, сошлюсь на оценку деятельности отца кимрского краеведа В. Коркунова: "Директором "Красной звездочки" был В.К.Мустивый. Этот человек, щедрый душой, как никто другой, понимал сирот, относился к ним заботливо и бережно. Виулен Кириллович сам познал безрадостное детство: с малых лет, после смерти родителей от тифа, он стал сиротой и воспитывался в детском доме. Став взрослым, он многие годы посвятил воспитанию детей-сирот и заботе о них. С 1935 года он — директор детдома "Красная звездочка". В 1941 году Виулен Кириллович ушел на фронт. После войны он работал в детских домах Рамешковского и Весьегонского районов нашей области. С 1952 года В.К.Мустивый жил и работал в Кимрах, здесь же несколько лет назад оборвалась его жизнь...".
13 июля мы отметили очередную, с 1986 года, годовщину, как отца не стало.
"Папа у тебя просто золотой", - говорили 'мне иногда люди. Действительно, столько испытав в жизни, он остался с наивной душой ребёнка. Всегда спокойный, уравновешенный, он ни разу, как я помню себя, не повысил на нас, детей, голоса.
Воспитывал нас своими глазами: взгляд у него был проникающим в самую душу и очень строгим, посмотрит — съежишься. А голос теплый, с украинским акцентом, ласковый, он никак не гармонировал с черными, колючими и сверкающими глазами. Скажет так тихо: "Не задирайтесь, никогда не жалуйтесь, чтобы за вас мне не было стыдно". Мы, как все нормальные дети, и дрались, и задирались, и двойки получали, но никогда ему не жаловались, знали, что его детдомовцы для него всегда правы. Он их любил, изучал, возился с ними, жалел, с тревогой думал об их будущем. Впрочем, дома мы его и не видели. Вставали утром — нет его, ложились спать без него. Я его, бывало, жду-жду, так и засну. Ночью проснусь, папа с мамой беседуют тихо, обсуждают рабочий день, поведение детей, как трудно с кем-то общаться, кто-то замкнут, дерзок. Папа очень переживал, когда долго не находил ключик к сердцу ребенка. Со" своими детьми общался так редко, но бурно, такие моменты были для нас праздниками: катал нас' на спине, крутил вокруг себя, играл в прятки. Очень любил маму, всю жизнь. Так трогательно о ней заботился, просто не мог надышаться на нее. Об их золотой свадьбе писала кимрская газета "За коммунистический труд" (от 1 мая 1978 года, статья "Совет да любовь"), поместила фотографию": мама и папа за столом у самовара.
Как-то решил с мальчишками в "жестки" поиграть. "Мне эта не нравится", — говорил одному; другому: "Поищите получше". Много "жесток" насобирали ребята, а он их браковал и браковал. Когда понял, что у них почти ничего не осталось, усадил их вокруг себя и провел беседу о вреде такой игры (жестка — тяжелый предмет, плоский, зашитый в тряпочку, по краям — кисточки для шика. Ее подбрасывали бесчисленное количество раз ногой, кто больше, дольше, целыми днями).
Вторым бичом у детей была игра в "перышки" от ручек. Доигрывались до того, что весь детдом и школа оставались без перьев, нечем было писать, только и слышалось: "Дай перышко!". Герои носили за пазухой связки перьев, нанизанных на нитку или тонкую проволоку. Эти связки в конце концов попадали в школу и честно распределялись среди "неимущих". Эта игра носила сезонный характер, процветала в учебный период.
В детдоме работал прекрасный сплав единомышленников — воспитатели были тесно связаны с учителями школы. Дружба отца с директором школы Варварой Михайловной Шондыш была искренней и деловой.
Праздники дети отмечали в клубе, собирались жители деревень, кто хотел и располагал временем. Художественная самодеятельность гремела по области. Отец был на виду.
Со всех концов России после войны на Камень приезжали люди, родные бывшего духовенства или монахинь, историки или географы. Некоторые, возможно, хотели отслужить панихиду по погибшим на полях сражений. Поражались, не увидев божьего храма, расспрашивали. (Храм взорвали в войну, якобы кирпич потребовался для постройки аэродрома.) Заходили к нам домой. Мама прижимала палец к губам, наказывала нам, чтобы никому не проговорились, что кто-то у нас был. Она всего боялась. Смутное время репрессий наложило отпечаток на психику взрослых и детей.
Отец, проработав здесь пять лет, начал замечать слежку за собой. На рабочем столе стали пропадать бумаги, рылись, в Калинине какой-то тип его открыто фотографировал. Анонимки в область на него шли с Камня, Чистых Дубрав, Весьегонска. Завистники не унимались. Комиссия за комиссией.
Провел электричество в детдоме в четыре здания — совершил вредительство, принес вред соседним селам, так как построил плотину на реке, воды стало меньше у соседей. Приехали, разобрали движок. Отправил детей учиться не в ФЗО, а в техникумы — нарушил постановление партии и правительства, заслужил выговор. Принял на работу маминого брата — пригрел врага народа. Дядя Миша в 17 лет попал в плен, плюс пять лет изоляции в Рыбинске, после войны, без права проживания в городе. Дети его любили. Он был мастером на все руки, столярничал, играл на баяне, гармошке. В глуши требовались мужские руки, тем более детском коллективе.
Кто занимался доносами, я узнала, уже живя на Дальнем Востоке. Папу стали вызывать в спецорганы, допрашивали. Все им казалось подозрительным в его жизни, даже сиротство. Например, как с передовой оказался на оборонном заводе? Да очень просто. Приехал генерал в часть, всех выстроили,и он скомандовал: "У кого четверо и больше детей — шаг вперед!". И так он оказался на заводе, где делали серную кислоту и снаряды. Там было хуже, чем в концлагере, жили впроголодь, работали круглосуточно. Он вернулся домой желтым скелетом. Лицо, все тело, одежда, шинель и валенки были лимонного цвета. Мама отпаивала его молоком больше года. У него хватило силы воли его пить. Он не любил молоко. Он говорил: "Молоко у меня даже из носа текло". У него была сильная контузия, частично так и осталась на всю жизнь.
Некоторые придирки "под врага народа" сейчас кажутся просто смешными. Мы уехали в Кимры, его "пожалели" из-за нас, как говорили взрослые. В начале шестидесятых папу пригласили в Калинин. Какой-то чиновник попросил его написать заявление о восстановлении в партии. Папа окинул его загадочным взглядом, улыбнулся и молча вышел из кабинета. О чем он думал, мы не знаем. Он остался верен себе.
Позже он не чурался никакой работы. Окончил курсы механизаторов, в страду работал на комбайне. Окончил еще высшие бухгалтерские курсы и последние годы работал на фабрике имени М.Горького главным бухгалтером.
В калейдоскопе прожитых лет я всегда вижу его с ребенком на руках: мальчик разбился на санках — папа бежит с ним в медпункт. В Пальцеве Боря Царьков тонул в проруби и кричал: "Дайте руку, перышко дам!". Лед трещал, дети не подходили. Папа бросился на помощь и нашел его уже подо льдом, еле откачали Борю, а папа заболел.
Как бы ностальгия не питала идеализированные воспоминания о прошлом — все было. В чем-то я, возможно, не права, не точна, но детство — всегда лучшая частица жизни, его воспринимаешь, как оно есть. И все то, что окружало нас, было солнечным и святым. А место Камень действительно святое. Не удержался детдом, расформировали его, после нашего отъезда продержался не более двух лег. Потом открыли вспомогательную школу-интернат для умственно отсталых детей. Они стали тонуть в неглубокой речке, теряться в лесу — трудно сними было, сотрудники начали пьянствовать. Закрыли и этот детский приют. Разъехались люди. Лес уничтожил их следы, шумит и царствует, как будто только и ждал, когда наступит умиротворение.
...Там были изначально обитель, великолепный храм, покой и порядок, только перезвон колоколов да пенье птиц нарушали тишину. Тому и надо было быть в святом месте!
«Весьегонская жизнь», 1994 г.
Фото с сайта ПАМЯТЬ СЕРДЦА