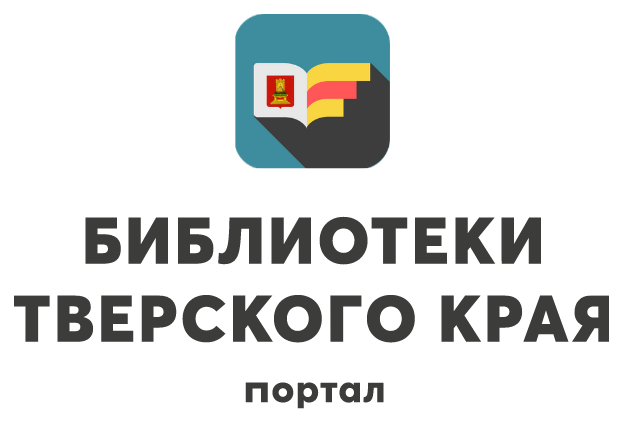Л. В. Соловьёва Портрет монахини Евсевии и некоторые сведения о ней самой

О существовании женского Троице-Пятницкого монастыря, известного в народной молве как «Камень», я знала с раннего детства. Мне было около пяти с половиной лет, когда мама – учительница Соловьёва Анна Кирилловна со мной, моей старшей сестричкой Диной и полугодовалой Олечкой на руках приехала к своей матери Соколовой Анне Васильевне на каникулы в деревню Григорково буквально за две недели до начала Великой Отечественной войны. Здесь мы и задержались до 1946 г., когда наш отец, пробыв всю войну на фонте, вернулся из Венгрии.
Здесь, в Григорково, я начала ходить в Арефинскую неполную среднюю школу и окончила четыре класса. Мне запомнились рассказы бабушки и моей тети Анны Матвеевны Поляковой (Соловьевой) о монастыре «Камень», который был очень почитаем в народе, и о том, как его закрыли и разрушили «безбожники» (по выражению бабушки) перед войной или в самом её начале. Слушали мы и рассказы о том, что летом или осенью по каким - то праздникам в этом монастыре происходили большие церковные службы и перед этим через нашу и ближние деревни проходило туда много народа - буквально, толпы. К тому же в эти дни «на Камне» происходила большая ярмарка, куда съезжался и стар, и млад, и где продавались разные товары. И что важно, крестьяне привозили на продажу свои изделия – всякую ручную работу – конскую сбрую, телеги, дрожки, решётки для одров, инвентарь, кованые в кузницах косы, вилы, косовища, кадушки, дупленки, горшки, вытканное льняное полотно (новину) и многое - многое другое. – И чего только там не было! – прибавляла бабушка. Рассказывали также, что сразу после организации колхозов с 30 -31 года всё это прекратилось, т.к. монастырь закрыли. В помещениях открыли какую-то ремесленную школу для социально неблагополучных подростков. Но в 1941 году сразу после начала войны и её закрыли, монастырь взорвали, а камни возили для строительства аэродрома в Кесьме. Тогда же взорвали церковь в деревне Чистая Дуброва. А большую красивейшую церковь в Чамерово пощадили, вероятно из-за её размеров, - взорвали только её каменную ограду. О судьбе монахинь я ничего не слышала, как будто их и не было.
Вот такие сведения сохранились у меня в памяти до второй половины 80- х годов, когда я начала ездить в деревню фактически каждый год летом из Сибири. В Григорково моя семидесятилетняя мама, вспоминая свое раннее деревенское детство во время Первой Мировой и Гражданской войн, купила маленькую избушку-развалюху и я после смерти мамы немного отремонтировала и укрепила её. Изба нашей бабушки была уже собственностью колхозницы Нины Васильевны Тюкшиной.
Примерно в 1991 году в соседней избе поселилась оседлая цыганка Галя, которая стала работать на ферме сторожем. Соседний, давно не ремонтировавшийся дом, принадлежал колхозу, который и дал его своей работнице цыганке Гале на временное проживание. Три её взрослые дочери были уже замужем, старший сын тоже жил в другой деревне. Здесь был младший сын – подросток. Я и Галя быстро подружились и она время от времени заходила ко мне в гости. Я была очень занята исправлением рукописи своей научной книги, но время на чаепитие всё-таки всегда имелось. Однажды и я зашла к Гале и была поражена, увидев на стене в кухне портрет монахини. - Кто это?- спросила я. – Да это монахиня с «Камня»». Осенью в Москве, перед полетом в Иркутск, я зашла во Всесоюзную библиотеку им. В.И. Ленина и, к моему счастью, нашла небольшую книгу о нашем Троице-Пятницком монастыре – «Камне» священника Н. Никольского. Читая её, обнаружила и фотографию портрета Евсевии – настоятельницы монастыря. Это была фотокопия портрета монахини, висевшего в избе моей соседки – цыганки Гали.
Теперь я понимала, что портрет безусловно представляет историческую ценность для краеведов наших мест. К тому же портрет, висевший у Гали, был сильно порван чуть ниже лица и требовал реставрации. Я понимала, что вблизи русской печки, которую в нашем холодном краю топят десять месяцев в году, портрет вообще может погибнуть. Это было в 1994 году. А в мой приезд на следующие два лета я стала просить Галю продать портрет мне, правда, за небольшую сумму, т.к. годы были очень тяжелыми материально и приходилось жёстко экономить деньги на билеты из далекой Сибири и обратно. Я расспрашивала Галю о том, кто подарил ей портрет. Она рассказала, что их табор стоял в конце 50-х, начале 60-х годов где-то близко от деревень Костиндор, Сажиха и она подружилась там, кажется, в деревне Костиндор с двумя старушками – монахинями, одна из которых была якобы и изображена на портрете. Она и подарила его Гале. – «Мы - ведь тоже православные, как и вы - русские, мы – цыгане, принимаем веру народа, среди которого живем». На мой вопрос, а кто изображен на портрете, Галя ответила буквально так: - « Так она сама и есть, она – начальница, та, что подарила!» Я, честно говоря, не поверила Гале, что портрет ей подарила сама Евсевия – ведь в 1960 –м году ей было бы уже 96 лет! Однако, я не стала опровергать её слова, также как не говорила ей, что портрет я покупаю не для себя, а предполагаю реставрировать его и подарить или в Весьегонский краеведческий музей, или в районную библиотеку. Ведь простые, не имеющие образования люди считают, что всякие «ученые» - учителя, музейные работники, библиотекари, инженеры, научные работники «гребут деньги лопатой»! А мы-то знаем, какова эта «лопата» и куда она «сыплет» наши денежки. К тому же Галя, не умеющая читать и писать, но прекрасно образованная цыганской жизнью считать денежки, могла бы подумать, что я обманываю её – хочу дёшево купить портрет для богатой, имеющей деньги организации. Я не хотела быть навязчивой и лишь изредка говорила с ней о портрете. Наконец, она сказала: - «Знаешь, я тебе не продам этот портрет, я тебе его завещаю!». Гале на вид было лет 65, она не казалась больной и я возмутилась: - «Ну что ты говоришь !» Я поняла, что вряд ли я портрет Евсевии буду когда-то иметь.
И вот – приезжаю летом на следующий год, а Гали нет! Спрашиваю – говорят, умерла, а всё, что у неё было, забрала дочь, которая живёт в деревне Баскаки. Но я решила сделать последнюю попытку. В старой – престарой избе перед отъездом всегда уйма дел и помню - только перед самым отъездом мне удалось выделить один день. Это было в самом конце августа в 1996 или 1997 году. Я решила идти в деревню Баскаки напрямик по старым заросшим дорогам, т.е. через заросшие поля, пролески, лес и исчезнувшее к тому времени село Чурилово и далее через реку Кесьму вверх на горбан (так у нас называют реликтовые холмы от ледниковых отложений) до Баскаковской церкви. Погода в этот день стояла просто мерзкая – холодный дождь, мелкий, моросящий, да ещё и с ветром. Хотя я была в резиновых сапогах, в накинутом стареньком плаще и с несовершенным зонтиком – я частично помокла, а в сапоги натекла вода. Реку Кесьму перешла босиком – подвернула уже не сухие штанины и ступила в холодную воду. Перед Кесьмой встретился несколько странный мужчина – в неизвестной мне зеленой форме и один. Из краткого взаимного диалога я поняла, что он приезжий, видимо лесник или лесовод, здесь по делу. На его любопытствующий вопрос я нарочно ответила, что просто гуляю, так как люблю такую вот погоду и такие именно пустынные места. В душе я радовалась - это безопасный человек, а ведь в пустынном месте в наших лесах можно встретить кого угодно – например, беглых из тюрем, бомжей, добывающих кору и тому подобных.
В Баскаках я быстро нашла избу молодой цыганки Любы, которая была замужем за русским парнем. Я дважды постучала в дверь, идущую в сени и, наконец, не сразу, вышла именно она. Долго не могла понять, что же мне нужно, а, поняв, наконец, сказала, что такая картина у неё есть. Я, разумеется, не сказала, что её мать обещала «картину» мне, а просто предложила ей десять рублей (или 100000 рублей - не помню, какие деньги тогда были). Если бы она согласилась – у меня осталось бы ещё десять (всё, что у меня было), на транспорт в Москве, кое- какую еду и проезд до квартиры в Иркутске. Билет на самолет был куплен заранее. Но красивая цыганка не соглашалась и мы сошлись на 15 рублях. К моему счастью дождь кончился, до Иванова я доехала на попутном тракторе, а дальше – до Григоркова на попутной машине. На реставрацию мне удалось отдать портрет года через три через сводных родственников какому-то калужскому художнику, которого они очень хвалили. Получал её обратно тоже года через два мой сын, причем реставратор взял с меня вдвое больше договоренной суммы. И главное – результаты реставрации меня несколько огорчили: мне показалось, что Евсевия на портрете имеет более жёсткое выражение лица, чем на фото портрета в книге. Кажется, такой негативный результат получился из-за более резко обозначенных черт лица реставратором. Но сделать я уже ничего не могла, т.к. с реставратором я общалась не непосредственно, а через обнадёживших меня не близких родственников.
А теперь я пишу то, что удалось не совсем точно узнать о судьбе монахинь из монастыря. В округе говорили, что часть их осела в ближних к монастырю селах. Иконы увезли, по-видимому, в неразрушенный храм в Чамерово. Сама Евсевия вероятно как-то устроилась в близкой к монастырю деревне Костиндор, в которой цыганке Гале и подарили икону. Известно, что в 1956 году вышло постановление правительства об оседлости цыган (борьбе с бродяжничеством), по которому они получали паспорта, приписывались к определенным местностям и должны были работать. В Весьегонском районе мне известны два таких места – в районе Иван-погосткого поссовета – вероятно на месте исчезнувшего поселения Глинницы (бывшие дома священников и причта Титовской церкви) и вблизи деревень Сажиха, Суково, Костиндор. Галин табор находился как раз в последнем месте. Утверждение Гали, что икону подарила ей сама Евсевия, которой в 1956 году исполнилсь бы уже сто лет, маловероятно. Наверное портрет остался у кого-нибудь из её младших сестер – монахинь.
До сих пор достоверно известно, что в деревне Костиндор в 60-десятых годах жило несколько монахинь, к которым ездили местные жители – в основном женщины со всей округи. А ездили они к монахиням на гаданье для разрешения вопросов и сомнений - почему не пишет сын, можно ли узнать что-либо о родственнике или где искать пропавшую корову или овцу. Известно, что устав православной церкви запрещает всякую ворожбу, предсказания, гаданье и тому подобное. Но что же оставалось делать одиноким старушкам, не имеющим родственников и уже не имеющих физических сил работать. Да и гадали, и предсказывали они всегда с молитвой и обращаясь к богу. Два таких случая предсказаний монахинь из Костиндора рассказал мне уже в наше время житель Чистой Дубровы Михаил Михайлович Безручкин, родившийся как раз в 1956 году. Ему эти случаи не один раз пересказывала мать. Когда ему было года три, у них пропала корова и после долгих безнадежных поисков мать поехала на гаданье к монахиням в Костиндор. Монахини сказали, что искать корову нужно где-то ближе к Весьегонску за церковью у леса. Мать посадила маленького сына на телегу и поехала по «большаку» (дороге) к Иван -погосту. Доехав до Титовской церкви завернули к деревне Григорково и, проехав её, – дальше к лесу. А у леса коровушка и стоит! И ещё – в эти же годы потерялся ребенок – трехлетняя девочка у приехавших «дачников». Искали два дня безрезультатно, отчаялись и обратились к монахиням в Костиндоре. А они говорят – «Скоро найдет вашу девочку мужик». И действительно уже к вечеру один их деревенский или из соседней деревни мужик приносит ребенка, нашел в меже на соседнем поле. Видно, в свое время много таких правдивых и сочиненных рассказов было в окрестных деревнях про предсказания монахинь из Костиндора. Ну а то, что они действительно гадали – это было достоверно известно.
Ещё я вспоминаю такой случай. В 1944 году зимой я и моя сестричка Дина раза два приносили из Арефинской школы записочки на маленьких кусочках бумаги, написанные детским подчерком. В них говорилось примерно следующее – «На высокой горе стоит высокий красивый белый дом, в нем молятся добрые люди, они молятся за вас и желают вам прощения и добра» и ещё что-то в таком духе. Говорилось дальше – «перепиши и передай другому». Мы принесли записки из школы домой. Бабушка говорит – это верующие писали. А мама – да ведь и в Америке есть белый дом, мало ли что, может быть какая - либо провокация и опасно это. Тогда ведь всего боялись - везде были глаза и уши. Нам и запретили эти записки переписать. Сейчас я предполагаю, что это исходило от глубоко верующих монахинь - в период отсутствия молитв и службы в храмах так они пытались сохранить веру в бога в людях. Связана ли была такая их деятельность со старческим движением в эти годы в России неизвестно, хотя и возможно. Скажу только, что Титовская церковь начала работать с весны 1944 года, когда приехал священник Иван Петрович Львов, вероятно, из заключения.
В книге священника Троице-Пятницкого монастыря Н. Никольского (Материалы по описанию Троице-Пятницкого женского монастыря. 1911. – копия имеется в Весьегонской библиотеке) много страниц посвящено Евсевии, подвижнической деятельности её и сестер – монахинь и послушниц, начиная с 1895 года, при возведении двух храмов на территории монастыря и большого количества хозяйственных построек. Всё это возводилось в безлюдном лесном месте, вдали от дорог. А ведь при этих трудных работах они вели постоянную церковную службу, а также тяжелые сельскохозяйственные работы, обеспечивающие значительную часть средств для существования. Нужно было организовывать ещё прием высоких священнослужителей, которые время от времени посещали строящийся монастырь. А когда приходили добровольные работники из разных мест, необходимо было устроить их быт – питание, крышу над головой и всё то, что требуется человеку. Жительница деревни Григорково Евдокия Андреевна Кокотунова в начале тридцатых окончила трактористкие курсы и работала в Телятинской МТС (теперь поселок Восход) на тракторе по всем соседним колхозам. – «Бывало пашу утром, а ведь рано начинали – ещё рассвет только. Гляну вверх, а кресты золотые на куполах так и горят – красиво то как!» Я спрашиваю: - «Тетя Дуня, а кто в монастыре работы выполнял?» -« Дак, сами монашки всё и делали – и пахали, и сеяли, и убирали, и лес рубили - всё, всё сами!» Вот краткое перечисление работ, которые производили сестры общины, а с 1906 года - монастыря из книги Н. Никольского: возделывание земли на огородах и полях, сенокос, рубка леса для построек и дров, возделывание кирпичей на своём заводе. Наиболее способные сестры пишут иконы, их чеканят и золотят, художественно вышивают и шьют платье и обувь. Не удивительно, что крестьяне сразу полюбили новый монастырь и он своим богослужебным и трудовым подвигом являл достойный пример окрестному населению.
А что было делать этим подвижницам после закрытия монастыря в 1930 – 31 году и изгнания на все четыре стороны. Наверное, многие, у которых была возможность, вернулись в родительские дома и стали трудиться в только что организованных колхозах. Но многим из них, как правило, более старшим и самой Евсевии идти-то было некуда. Вот они и устроились правдами и неправдами в ближних деревнях. Я думаю, что эти глубоко верующие женщины и сама Евсевия, преданные вере с юных лет, имели в душе надежду на изменение жестких запретов религии и на возвращение церковной жизни. Но пришла жестокая година войны и храм, возведенный их неимоверным трудом и верой, взрывают. Евсевии в 1941 г. было уже 84 года. Мы не имеем сведений, дожила ли она до конца войны и как упокоилась эта великая труженица во имя Всевышнего и его чад. Мы можем только сказать – Мир праху твоему и сохранение памяти твоему многотрудному подвигу, Евсевия!
Соловьева Лидия Васильевна, 23 мая 2018 г.