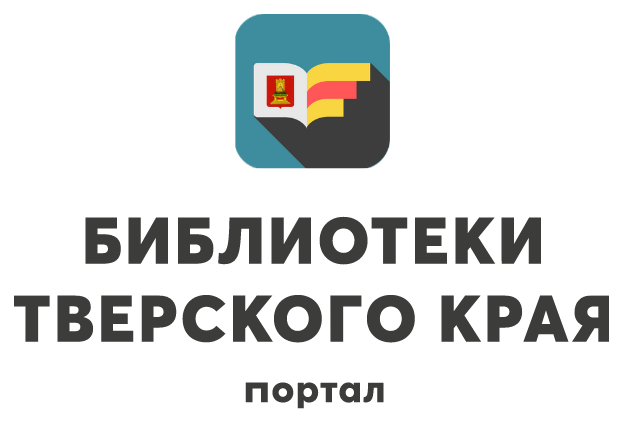Переезд. Чернава – Петелёво
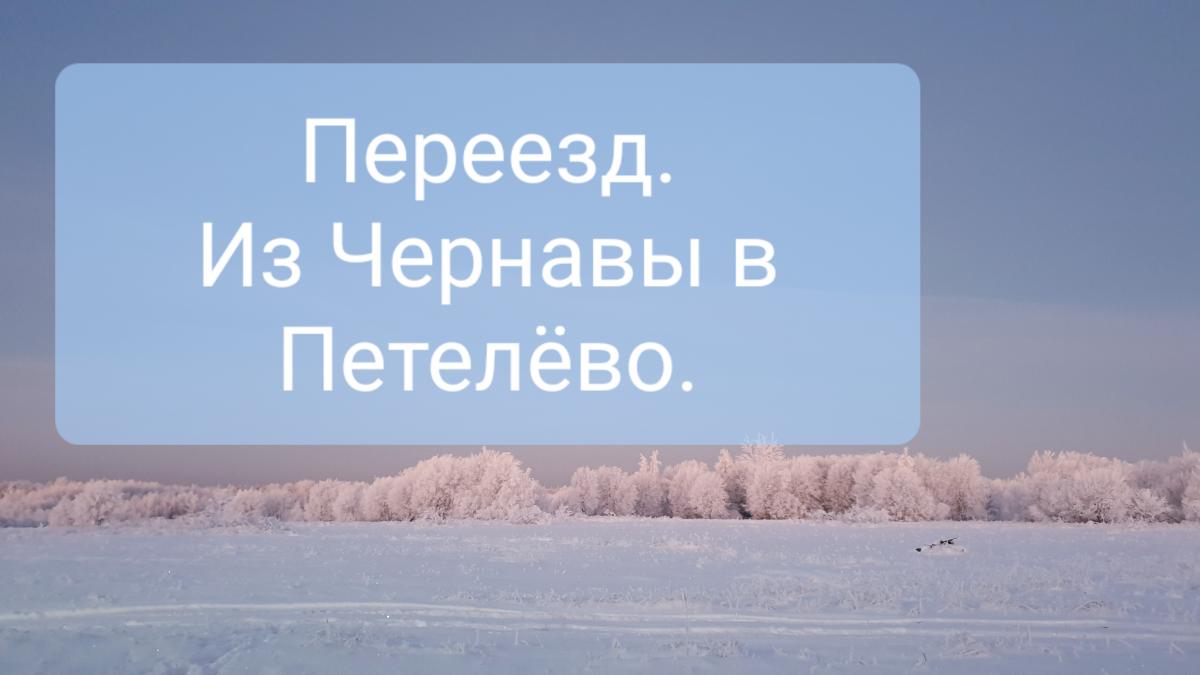
Друзья, предлагаем вашему вниманию 12-й рассказ из сборника Н.А. Тюльпак «Военное детство».
Шёл 1946 год. Зимним морозным днём в дом, что снимали Дмитриевы, зашёл дед Кирилл Крикалёв.
— Как живёшь, Василий? Смотрю, костыли то не бросил?
— Да как тут бросишь, дядя Кирилл? Болит колено то, ох, как болит, хоть плачь. Нарывает часто, ноет, по ночам особливо, спасу нет. Но я в движении. Не даю ноге то застояться. Одолею я эту хворь, одолею. Жить то надо. Со второй той группой на работу не берут. Да и какой с меня работник на костылях то. Летом комиссия, - многозначительно добавил Василий. Заходи, заходи… Присядь, покурим, - он достал из кармана кожаный кисет и сложенную аккуратно газету.
Дед Кирилл взял бумагу и махорку, скрутил тугую самокрутку, откашлялся и закурил…
— Да я вот по какому вопросу к тебе, Василий. Намедни был на станции, у поезда, Митяя, брата своего встретил. Так он сказывал мне, что надумал переезжать жить в Овинище на постоянно и свой дом перевезти. С работой, мол наладилось, избушку снимают ветхую, холодно больно. Вот летом и собирается свой дом поставить и усадьбу уже приглядел. Тебе жильё подыскивать надобно, - словно извиняясь говорил дед Кирилл.
Василий нахмурил брови, задумался.
— Да-а-а, задал ты задачку, дядя Кирилл… Деньжат то ноне ещё маловато решать… Но коль спешка такая, будем думку думать с Маней, как дальше жить то. Спасибо при случае передай дяде Митрию, что загодя упредил. И тебе благодарность моя, что зашёл, уважил. Тете Агаше поклон передай.
Посидели они, выкурили по самокрутке, поговорили про суровую нынешнюю зиму, за жизнь в колхозе, потужили о тех, кто так и не добрался до дома с войны. Надежда была ещё, особенно на кого похоронки не пришли или те, что без вести пропали. Авось и отыщутся!
Вечером, управившись с делами, затопил Василий печечку в горнице и начал совет.
— Что же делать то дальше, Маня? Поеду ка я в свою деревню к деду моему Дмитрию. Может позволит летом-то пожить в пятистенке. Зимой там нельзя, печки нет. Да будем смотреть, может домик какой снимем, аль ещё чего. Там вся родня. Тут только тётка твоя. Её не забудем. А со своими по проще нужду переживать… Может оне что и присоветуют.
— Да я то и не знаю. На тебя, Василий, полагаюсь. Хозяин ты. Да и деревню твою единый раз только и видела, когда поженились. Как решишь, так и поступим. Куды иголочка, туды и ниточка.
— Хорошо бы до весны всё обрешать, чтоб свой огород посадить, к зиме подготовиться. Вот деньжат то у нас нет почти.
— Да что гадать, рядить, пока не узнал ничего.
На том и порешили. Надо ехать в Петелёво. Не откладывая далёко, отец попросил лошадь в колхозе и наметил ехать на родину.
С раннего утра, когда оно ещё не проснулось и на улице царствовала тьма с веснушками звёзд на бархатном небе и едва зажигался тусклый свет в окнах домов да нерешительно поднимался дымок над заснеженными крышами, Маруся уже запрягла лошадь и подъехала к дому. Василий подошёл к саням, положил на них костыли, сел на охапку сена и привалился боком к жердине розвальней, чтобы видеть дорогу и управлять лошадью. Маня подала вожжи, прикрыла плечи мужа старым полушубком.
— Ну, с Богом! – напутствовала она, перекрестила Василия, отправляя в дальний путь.
Мороз с рассветом крепчал, он особо лютует с восходом солнца. Небо светлело. Бледнели далёкие звёзды. Среди белых полей, закутанных снегом лесов, розовел холодный восход.
Василий волновался. Он ехал на встречу со своей малой родиной, в милые сердцу места. Там прошло его лихое сиротское детство. Но родина звала, манила какой-то горькой памятью, притягивала сладкой тоской…
Лошадью управлять было неловко. На коленки не встать. Сидел боком. Ныла нога и спина затекла. Ветер обдавал холодом, особенно когда закончился лес, и Василий выехал в открытое поле. Мела позёмка. Поля убраны, укутаны ровным белым одеялом. На редких пустырях поднимались над снегом высокие сорные травы. Сухие, неживые уже, они покорно кланялись, трепетали, сгибались под порывами ветра и снова стойко сопротивлялись стуже и ветру, вставали так и не сломленные.
—Вот и мы, - подумал Василий, долго сопротивлялись, падали, вставали и шли врагу навстречу, под ливнями пуль, под градом взрывов, в ледяной воде и яростном огне… Неужели это всё закончилось навсегда? Неужели это не сон?
В делах и заботах, в лишениях и болях раздумывать было некогда. И вот сейчас он ехал на родину и мысли роились в его голове. Разные мысли, разные чувства хлынули каким-то необъяснимым потоком, и он никак не мог их обуздать, упорядочить. То вертелась в сознании война, страшная, такая ещё близкая с её нечеловеческими ужасами. То мелькали госпитальные палаты, операционные, коридоры с запахом крови и гноя, хлорки и махорки, с чувством бесконечной боли. Боли физической, душевной, висевшего в пространстве людского страдания. То вспоминался дом, чужой, необустроенный, нужда и невозможность сделать больше, чем он может. Дела то со всех углов на него глядят, а нога не хочет ходить, хоть реви.
И чем ближе были родные поля, тем явственнее наползало прошлое, тяжёлой лавиной душило его…
—Мама, мамка моя!!!
За столько лет в памяти Василия стёрся её нечёткий образ. Не помнил он мать свою. Ему три только минуло, как её не стало. Помнил только как гроб выносили. Как яркая вспышка, как августовский всполох на небе, запечалился страшный эпизод детства. Много народу кругом, чьё-то громкое истошное причитание. «Ох, Ириньюшка, ох, матушка! Чего же ты наделала! На кого же ты, родимая, детушек своих малых оставляешь, сиротинушек покидаешь?»
Вот это страшное «на кого же ты оставляешь» до сих пор гремит в голове Василия. Мать, сказывали, красивая была, с длинной чёрной косой густых волос, ладная да проворная. В избе было чисто, прибрано завсегда – говаривал дед Дмитрий, в огороде всё выполото, всё росло и плодоносило. Рука лёгкая была. Нравом кроткая. На праздниках пела красиво, а в пляс пойдёт – залюбуешься. Тётки поминали по-доброму. Справная бабёнка была. Детей любила. А как Настёну то родила, занемогла и двух лет не промаялась горемычная. Померла…
Овдовел Михаил. Двое малых детушек-сироток. Как жить?
Первые годы без матери в памяти стёрлись. Как в доме появилась новая хозяйка, Софья Леонтьевна, Василий тоже не помнил. Хозяйка - молодуха, была так себе. Управлялась, но хорошо делать не слишком радела. Своенравная была, вредная и пасынка с падчерицей с первого дня невзлюбила. Им доставалось за всё, в чём были виноваты, в чём не были виноваты, просто за то, что были. Дети научились реже попадаться мачехе на глаза. Увидит, острым взглядом полоснёт по робким фигуркам и зашипит: «Что под ногами путаетесь? Надоели, вражины. Брысь на полку, глаза б мои вас не видели». Вася поднимал Настёну по крутым ступенькам, забирался сам, обнимая перепуганную сестрёнку, закрывал собой, как от лютого врага. Они тихонько ложились на старые фуфайки, и Вася что-нибудь доброе шептал девочке.
Расскажу ка я тебе Настёна сказку. Он знал, что сказка – это то, чего на свете не бывает. Но он не знал ни одной сказки. Знал ещё и то, что мать ушла на небо. И им было плохо, тяжело, горько без мамы. Вот и придумал свою сказку.
Вот, Настенька, вышли мы с тобой в какой-то день в поле. А поле всё жёлтое, жёлтое, как солнце.
—А чего там посажено было, Вась? - прервала его сестра.
— Да не всё ли тебе равно, сурепка верно, - проворчал старший брат и продолжил:
— А над полем этим солнце ярко светит. От него лучи блестящие, до самой земли достают и спускается по этим самым лучам наша мамка, Настёна… И такая она ладная, красивая, коса на голове уложена корзинкой. Идёт в белой косынке, в сарафане в клетку, как у тётки Наташки и фартук белый. Идёт, руки нам протягивает и улыбается…
— Так чего ж она не приходит то, Вася? – взмолилась девочка.
— Так ведь это сказка, сказка Настёна, - сквозь слёзы в голосе успокаивал братишка.
Но малышка не знала, что такое сказка и каждый раз, когда ей было особенно плохо, она взывала к матери.
— Мамка, мамка приди скорей, забери меня на небо, на солнце. К тебе хочу шибко, забери, умоляю. Я всё тебе делать буду, миленькая мамка, забери…
Вася подрос. Его сразу приобщили к делам. Дрова носил, воду, снег чистил, навоз со двора убирал. В доме бывал не часто. И все тумаки доставались бедной сиротинке.
Как то, Настя играла с куклой. Ей игрушку сшила тётка Дуня. Девочка сидела в уголке избы. Мачеха у печки хлопотала, стряпала. Вася по хозяйству на дворе управлялся. Отец по первопутку за дровами уехал.
Мачеха выглянула из-за печки.
— Веник возьми, бездельница. В избе вымети, играет, сидит. Пожрать то любишь!
Настя отложила куклу, взяла веник и стала мести.
— Это ты чего творишь, дурища бестолковая, пошто веник не намочила, пылюгу подняла на всю избу! Иди мочи!
Настя кинулась к лохани и тут попала под горячую руку мачехи.
— Всё то не так делаешь безголовая, безрукая дрянь. Забирайся на печку, чтоб тебя не видела!
Девочка быстро вскарабкалась в укромное местечко, поглядывая из-за борова за действиями мачехи. Та выкладывала тесто из квашни в формы, приглаживая мокрой рукой. Соскребла с краёв квашни остатки теста, подлила воды, припудрила мукой, подкормила, размешала хорошо и подняла квашню на печку, чтоб забродила закваска на следующий раз. В этот момент под ноги попал котёнок, она наступила ему на хвост. Котёнок заорал, метнулся к чугунам. Мачеха кинулась к нему, задела в углу у печки ухваты. Они с грохотом повалились на пол, мачеха споткнулась, опрокинула чугунок со стряпнёй. Она орала так, что перегородка звенела. Схватила котёнка и зашвырнула его на печку.
—Ты ещё тут путаешься, зараза, удавлю!
Настя хотела его пожалеть, кинулась за ним, а он напуганный до смерти всем, что произошло, кинулся за квашню, задел её. Та, как-то неловко повернулась, покачнулась и прыгнула с печи на пол и, как на грех, разбилась на куски. Тесто расползлось между черепками.
— Ах ты ж дрянь паршивая, что натворил паразит, придушу тебя сейчас же!!
— Не бей его. Это я, я нечаянно, - со страхом прошептала Настя.
— Ты-ы-ы! – протянула мачеха, - ах паршивка негодная, ты-ы-ы…
Она схватила Настю за волосы и выволокла её с печки. Негодуя, мачеха таскала ребёнка по полу.
— Орать не смей. Васька прибежит, тебе больше достанется и ему попадёт.
Настя плакала молча, обхватив голову, чтобы не было так больно. Мачеха одной рукой держала девочку за волосы, костяшками другой стучала по голове. На голове не было синяков. Знала куда бить, чтоб больнее было.
— Батьке не смей нажалиться, поленом так задницу начищу, занозы замучаешься вытаскивать.
Когда пришёл с водой Вася, мачеха набросилась на него.
— Тебя только за смертью посылать! Где ёшкался?
— Колодец заледенел весь, лёд вырубал, - он посмотрел в угол избы, где и увидел сестру. Она стояла на коленях на горохе. Вася метнул вопросительный взгляд на мачеху.
— Квашню расколотила вдребезги! Пусть стоит! Не смей трогать!
— Отпусти Настёну, отпусти, говорю! Бате скажу, как ты лютуешь. Отпусти, ведьма проклятая.
Он в сердцах поставил бадейки с водой и подошёл к сестре.
—Ах ты поскудина, неблагодарная, дармоедина. Я кормлю его, пою, обстирываю, а он самовольничает, рот разевает. Схватила полено и пошла стучать по чём попало. А как увидела ненавистный, ещё пуще взбесилась. Хорошо, что в одежде был, а то прибила бы, не иначе. Вывернулся Вася и убёг из избы. Вернулся уже с отцом. Настёна сидела на печке. Мачеха сразу рассказала про квашню. Отец пожурил дочку.
— Ладно, мать, с кем не бывает. Да и квашня то уж берестой была лечена. По весне приедет тряпишник, сменяем на новую, костей на смену прикопили. Пока и в долблёнке замесишь.
— А закваску неделю растить, - не унималась мачеха.
— Сегодня хлебы поставила, до другого раза вырастишь, - успокаивал её отец.
— Спускайся, дочка, к ужину, - добавил отец.
— Да она давечи поела, - поспешила заверить мачеха.
— Иди, с нами то повеселее, может ещё что глянется, спускайся.
— Не хочу я, тятя, спать ужо стану. Мачеха метнула в сторону печки лютый взгляд.
Отец не стал настаивать. А Вася уже после узнал, как спать к ней поднялся, что ничего не давала ей мачеха. Отцу говорить запретила и к столу вылезать не велела, стращала. Вася тогда ночью забрался на стол на кухне. Дотянулся до верхней полки полицы, где под полотенцем притаилась начатая краюха. Тихонько отрезал ломоть хлеба, водички поддел и принёс сестре. Утром мачеха, конечно, заметила, но при отце и виду не показала.
Сели завтракать вместе. Мачеха положила на стол картошку «в мундире», да капусту квашеную поставила в миске, ложки всем подала. Сели за стол. Дети взяли по картошинке. За капустой потянулись ложками. Мачеха под столом ногой поддала одному, потом другому ребёнку. Не смей, мол, не вам положено. Настя грызла картошину, глотая слёзы.
— Настенька, ты, что так плохо ешь, не захворала ли? А? – беспокоился отец.
— Не хочу я больше, тятя!
— Да что с тобой, дочка? - недоумевал отец.
— Не хочу больше, наелась!
Вася взял вторую картошину и Насте достал. Но девочка получила ногой мачехи под столом и не смела больше есть. Завтрак закончился. Отец уехал в лес. Вот тут мачеха и разошлась, распоясалась. Кляла детей, как попади, но руки на сей раз не распускала.
Дети сидели на печи.
— Убегу я, Настя, убегу. Вот подрасту ещё и убегу. Обустроюсь и тебя заберу. Не стану терпеть эту ведьму. Убегу!!! Плакал мальчик, обнимая сестрёнку.
И убёг. Исполнилось 14 лет и убёг…
Тут воспоминания остановились, Василий подъехал к деревне. Сердце забилось сильнее. Уже рассвело. Ясным морозным утром Василий въехал в открытые ворота на околице. На зиму их не закрывали. Скот стоял во дворах и убегать в поля было не кому. Вот и дом деда Дмитрия. Василий остановил лошадь, едва выполз из розвальней. Придерживаясь за сани, привязал вожжи к столбику забора, отстегнул уздечку, бросил охапку сена под ноги лошади, накинул свой полушубок на спину ей, достал костыли, постучал валенком здоровой ноги по ступенькам и поднялся на крыльцо. Знакомый запах дома словно и не было всего того, что пережил Василий за эти годы. Как давно он был здесь, давно…
Услышав стук, в сени выскочили тётки. Заохали, запричитали! Зашли в избу. Дед, как всегда, сидел на лежанке.
— Ах, Васька! – обрадовался он, приехал, таки, мазурик, деда спроведать. Думал, помру и хошь близко ты уж да не повидаю. Что ж ехал так долго. Когда уж сказывали то с войны пришёл. Слыхал сын у тя народился, а ты дорогу к нам забыл, а?
— Не ругайся дед, хворый я, на костылях, а по первости ещё хуже было. Дай, обниму тебя, дорогой мой!
Дед встал, обхватил внука своими старыми руками, уткнулся ему в холодную от мороза, грудь и тихо так по-детски заплакал…
— Будет, тятя, будет. Радость в избу. Чего трясёшься, садись, садись. – хлопотала Наташка. Тётки заговорили по-карельски.
— Не забыл, чай, язык свой? - спросил дед. В Чернаве поди и не слыхивал родной речи.
— Да, дед, там не говорят на карельском, - подтвердил Василий.
Тётки метали на стол что было. В печке уже приспели щи, достали грибы и капусту с подполья. Огурцы солёные. С картошки сняли «мундиры».
— Дуня, там в сунице горяченькую достань, осталось ешо. Не каждый день внук к деду то жалует. Махнём маненько за свиданице, да и Ваське то для сугреву.
— Да, Вася, беды много от войны в деревню привело. Сколь люду не воротилось. И братейник твой родный Ванька наш пал смертью храбрых. Соньке похоронка пришла. Будилкины вот, Ванька с Санькой не воротились. Да уж чай не придут. Похоронок нет и их нет. Антонина Сенькина уехать в Чеганцево планирует. Дом будет продавать. Да кто купит? Ноне с деньгами у всех худо. Дом то Семён не успел достроить. Двора нет. Мучается она с девчонками.
— Так схожу я к Антонине. Мне аккурат жить негде. Дед Митрий свой дом перевозить на станцию хочет, вот я и думаю сюда перебраться. Может наскребём малехо, а остальные опосля Антонине отдам. Пойду поговорю с ею. Чего скажет. Продадим кой-чего. Костюм бастоновый перед войной справил в Питере, а у Мани жакетка меховая ладная, успела схватить, как от немца убегали. Ждёт применения. Нам то, куды в нарядах ходить, коли жить негде.
— А в обратно то, не хотите возвернуться, Вася? – спросил осторожно дед.
— Нет, в городе ноне ешо хужей. Тут земля прокормит. А куды я там с костылями. Тут вот бондарничаю потихоньку. Всё, какую копейку заработаю, али продукты на обмен.
— Так-то так, Вася. Да отдыху тут не будет вовсе. В колхозе мужиков не осталось, а те, что вернулись, все изранены. Бабы износились, сил нет и помощи ждать не откудова.
— С землёй полегче будет, тут и я применение найду. Лес опять же – подмога. Летом грибов Маня запасла, бабка Анна с ягодами подсобила, с Валюшкой бегали. Черницы да малины насушили. Лебеды в хлебы припасли.
— Неушто кладёте? Горчит, поди, - всплеснул руками дед.
— Да нет, дед, ничто с картохой в перемешку сытнее выходит. Кладём на добавок.
— А мы ноне обходимся. Картоху то давим, а лебеду только курам. И обращаясь к дочери: — Дуня, положи сколько яиц детям, не скупись!
— Да не довезу дед, замёрзнут, толку мало станет.
— Под доху спрячь, - не унимался дед. – А то и послать нечего гостинцев то от деда.
— Да полно тебе, дед, раздавлю, с саней выползая. Оставь это. Василию не хотелось за зря изводить продукты.
Дед всё не унимался, так хотелось ему хоть чем то, порадовать правнуков.
— Дуня ставь самовар, в ём и свари тогда. Эти довезёт. И послал-таки гостинец.
Василий пошёл к Антонине. На этом посаде домик стоял, за избой мачехи. С болью глянул Василий на окна Сонькины, но не зашёл. Прошёл мимо, прямо к вдове двоюродного брата.
Антонина глянула на Василия, всплеснула руками, села на лавку, фартуком закрыла лицо и запричитала.
—Ой, Вася, нет Семёна то моего, нет. Пропал. С госпиталя писал, что комиссовали. Жди, мол, скоро приеду и вот нет… Куды подевалси, куды запропастилси? Как худо мне, худо, Вася. Война уж почитай год как отгремела, а моего нет, нет… Счастливая Маня твоя, дождалася. Хромый, на костылях, но живой. Не одна. Вот девчонки без бати растут. Они ноне моя подмога. Подросли за годы войны. Видишь и дом не достроил… Как радовались, как отделились, в свой дом перешли. Летом думали двор сложить, скотину завести. Одни стены голые в избе. Радовались, глядя на них, свои… А запах какой! Лес прямо в доме. А тут она, война разлучница. Зачеркнула и радость, и счастье. Помню, как провожали на станцию. Девчонок с дедом Николаем оставили. Куды им, малы ещё. Расцеловал он их, подкинул к небу по очереди, батю приобнял. Не долго эта баламутка будет, приду скоро. Не горюйте. И пошли под руку. Народу много тогда собралось. С песнями, гармошками, с причитаниями и слезами. Сердце сжималось от тоски, боли и тревоги. А вдруг в последний раз с ним иду рядом? Вдруг сгинет? Как знала! А Семён, смотрю, спокойный больно.
— Да не переживай ты так. Велика ли та Германия? Мы то Россия великая. Повалим германца, к зиме приду. Достроим дом, попомнишь меня, всё у нас будет, - и шершавой, натруженной рукой как-то несмело, неловко провёл по моей мокрой от слёз щеке.
— Веришь, Вася, до сих пор его руку чувствую. Сулил прийти к первой зиме. А уж пятая пришла. Обманул… Нет ни весточки, ни словечка, ни казённой бумажки. Верно, уж не придёт, сгинул поди. Был бы живой, пришёл бы… Вот и решила я, Вася, дом продать. Уеду в Чеганцево. Мать там, родные, подсобят. Нет счастья в доме этом, сгинуло вместе с Семёном, стаяло словно свеча… Наполнилось болью, тоской и холодом.
Рассказывала Антонина Василию об жизни своей, словно прощалась с ней. Стремилась в жизнь новую, неизвестную, где меньше напоминаний было о пропавшем муже, о тяготах войны…
Сговорились о стоимости дома, о возможности долга так как полной суммы раздобыть было негде. Да и понимала вдова, что этот покупатель её спасение. Дом нужен, и свой не обманет.
Василий обрёл надежду на лучшую долю, она уже сладко томилась в его сердце.
Так и переехали к весне. Антонина в Чеганцево, Дмитриевы в её опустевший дом в Петелёво. Соседство было не лучшее, мачеха жила рядом.
— Но что с ней теперь делить, - думал Василий, примиряя свои мысли.
Валентина Ковальчук, библиотекарь Ивангорской библиотеки