Ольга Снеткова "Война в судьбах предков: три семьи, три истории"

Снетков Алексей Кузьмич
Великая Отечественная война оставила свой безжалостный след во всех семьях нашей необъятной Родины. Моя исключением не стала.
В семье Снетковых в боях за тверскую землю против фашистов участвовал мой прадед со стороны отца – Снетков Алексей Кузьмич.
О его судьбе родным ничего не известно. Знаем лишь, что был призван он в Красную Армию и подразделение, в котором он оказался отправилось на оборону Ржевского участка Калининского фронта.
Это произошло в самом начале войны – в 1941 году, на войну он был призван 26 июня 1941 года.
Тогда моя прабабушка Агафья Ивановна (Воронцова в девичестве) тридцати пяти лет от роду видела отца своих детей в последний раз.
По данным архивов Министерства обороны в одном из документов упоминается имя прадеда, где стоит статус – «пропал без вести», дата - июль 1941 года. Страшно представить, что он испытал перед гибелью, ведь по воспоминаниям и свидетельствам бои подо Ржевом были самыми кровавыми в Великой Отечественной войне.
После того, как прадед ушел защищать Родину в июне, в октябре 1941 года в деревню Матеево Калининской области, где находилась его семья, нагрянули фашисты.
В новом доме, который построил Алексей Кузьмич перед самой войной, обосновались немецкие солдаты. При отступлении дом и вовсе сожгли, как и почти всю деревню.
Мой отец рассказывал о воспоминаниях родственников, что пережили ту страшную зиму: «Жили в лесу во времянке, голодали. А ранней весной, когда травка только начинала зеленеть, то сразу съедали всю, что находили, подчистую».
Женщине с пятью детьми на руках, один из которых грудной, было очень сложно. Но все деревенские держались вместе и помогали друг другу.
Когда деревня была освобождена, все выжившие поселились в одном уцелевшем доме, который до сих пор находится в деревне Матеево – одноэтажное небольшое вытянутое строение.
Во время войны у Агафьи Ивановны скончалась от болезни маленькая дочь – Валентина. Всех детей она поднимала сама.
Жижины
Это девичья фамилия моей бабушки - Котовой (Жижиной) Галины Васильевны. Она – мама моей мамы – Снетковой (Котовой) Любови Анатольевны.
Во время Великой Отечественной войны в боях под Ленинградом участвовал Жижин Виктор Васильевич – старший брат Галины Васильевны – ему тогда исполнилось двадцать лет.
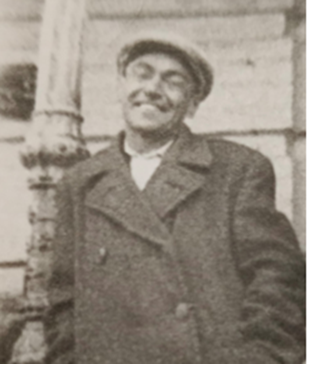
Жижин Виктор Васильевич
Он ушел в ополчение добровольцем. В одном из сражений он был тяжело ранен разрывной пулей в ногу, но его вынесли и спасли. Проходил лечение в городе Ленинграде в военном госпитале. Блокада Ленинграда в то время уже началась.
Виктора вместе с остальными ранеными, эвакуировали на машинах через Ладогу – по «Дороге жизни».
Сам Виктор Васильевич рассказывал, что вгоспитале, где он лежал, работала женщина, которая ходила домой мимо квартиры Жижиных, где жил его отец Василий Фёдорович.
Когда за несколько дней сообщили об эвакуации раненных, он просил сообщить своему отцу о том, что их вывозят и отдавал ей свой паек. Но она почему-то так и не зашла по нужному адресу.
Виктора вывезли вместе с раненными, а его отец Василий Жижин остался в блокадном Ленинграде. У него были серьезные проблемы со здоровьем, и в один из дней его забрали в больницу, где он и скончался 18 мая 1942 года.
Похоронен Василий Фёдорович в братской могиле на Пискаревском кладбище в городе Санкт-Петербурге. Известно, что квартира, в одной из комнат которой проживали Жижины, была уничтожена попавшим в стену снарядом.
Виктор Васильевич остался инвалидом до конца своих дней – сильно хромал из-за ранения в ногу. Прожил долгую жизнь и скончался в 1985 году в городе Красный Холм.
Котовы
Котовы – уроженцы Весьегонского уезда, деревни Стрекачево.
Об участии родственников моего деда, Анатолия Федоровича Котова (1925 года рождения), известно немного.

Котов Анатолий Фёдорович
Отец Анатолия Фёдоровича (1891-1964) был кузнецом. Он прошел всю войну с полевой кузницей. В сражениях не участвовал, а помогал в восстановительных работах, следуя за войсками.
Старший брат Анатолия Фёдоровича – Михаил (1921 года рождения) был боевым офицером, окончил Челябинское танковое училище и служил в танковых войсках в звании лейтенанта, был командиром танка.
Дошёл до Кенигсберга (ныне Калининград), где погиб, сгорев в танке. Все его награды и документы находились у его супруги в Челябинске, но мать Михаила связи с невесткой не поддерживала, поэтому никаких документов и фотографий Михаила Фёдоровича в нашей семье не сохранилось.
Сам Анатолий Фёдорович служил на восточном фронте. Призвали его в 1943 году. Бился против японцев в Маньчжурии.

Котов Анатолий Фёдорович с сослуживцами
Был танкистом (стрелок-радист). Участвовал в боевых действиях, горел в танке, был ранен и проходил лечение в полевом госпитале.
По воспоминаниям бабушки известно, что после окончания боевых действий, предлагали всем участникам продолжить военную службу и учиться на офицера, но Анатолий Фёдорович изъявил желание отправиться на родину в качестве гражданского лица. В Кашине прошёл обучение по специальности электромеханик, после окончания учёбы стал работать электриком и встретился с Галиной Васильевной – своей будущей супругой.

Котова Галина Васильевна
Сама Галина Васильевна (1928 года рождения), уроженка города Ленинграда, уехала в город Красный Холм на летние каникулы 12 июня 1941 года. Но обратно в родной город жить не вернулась.
Из воспоминаний моей бабушки Галины Васильевны:
«Война застала нас с матерью в городе Красный Холм Калининской области. Сам фашист до туда не дошёл, но много раз случались авианалеты. Это происходило из-за железной дороги, что находилась совсем рядом – на окраине города. Недалеко от ж/д вокзала стоял огромный валун. В какой-то зимний день мимо проходили люди. И вдруг – авианалёт! Нужно спасаться, укрыться рядом с чем-то крепким. Вот женщина присела с одной стороны этого валуна, а мальчонка, что неподалёку бегал, - с другой. Бомба ухнула оземь и накрыла. Женщина выжила, а ребёнок – нет. Страшное время было. Безопасного места не было даже за стенами дома – снаряд из самолёта мог прилететь и в крышу..."
Также запомнились её воспоминания о возвращении в Красный Холм девочки-соседки, с которой она дружила.
«Мы же обе из Ленинграда были. Когда война началась, она убежала от бабушки – родителей искать, в Ленинград. Сама побежала. Добралась... Она попала в город на Неве, но началась Блокада. Родители её были врачами, да ещё и военнообязанными – их забрали на фронт. Она с ними даже увидеться не смогла. Рассказывала, что попала в детский дом. Мало говорила. Очень много молчала и смотрела своими огромными воспаленными глазами. Когда она вернулась в Красный Холм в дом к бабушке, румяную девчушку с длиннющей косой было уже не узнать: лысая, худющая, со впалыми щеками и глазами, а живот выпирал, будто тринадцатилетняя девочка слопала годовой запас картошки. Она почти всегда молчала и очень долго восстанавливалась. Но не смогла стать прежней веселой щекастой непоседой – в душе она перестала быть ребёнком».
Город Красный Холм являлся в то время важным железнодорожным узлом, и через него каждый день на фронт уходили составы с гуманитарной помощью, переправляли военные части и добровольцев из тыла на фронт, перевозили составы с необходимой техникой и вооружением.
Одно из ярчайших воспоминаний моей бабушки – первый состав с эвакуированными ленинградцами.
Из ее воспоминаний:
«Привезли жителей Ленинграда. Это было страшно – смотреть на них. Руки-ноги – прутики. Кажется, дунешь на человека, и его пополам сломает от ветра. Все были настолько худыми и измождёнными, что не было сил двигаться – мама помогала дойти до нашего домика. Многие прибывшие блокадники оставались в тылу и квартировали у местных жителей».
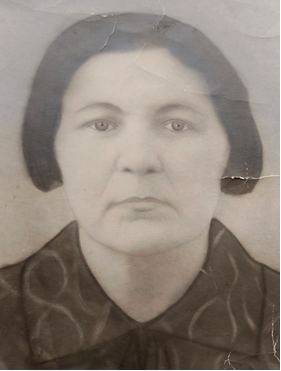
Жижина Пелагея Николаевна
У прабабушки Пелагии в Красном Холму был маленький домик в одно окошко, с низким потолком и маленьким сараем. Находился рядом с центральной дорогой. даже я сама застала этот домик – каждый раз, проезжая городок, папа и мама показывали на маленький полуразвалившийся темный домик и говорили: «Это дом бабы Поли. Здесь на каникулах гостила мама».
Теперь этого здания не существует – его снесли и построили на том месте высокий добротный двухэтажный дом. Но, вспоминая ту маленькую коробочку с окошком, я с трудом могу представить, что там могут разместиться больше двух человек. Однако же, в том доме во время Великой Отечественной войны жили не только Пелагея Жижина и её дочь Галина, но и люди, нуждающиеся в крыше над головой или месте, где можно получить помощь и дождаться поезда, отправляющегося в глубокий тыл. Еды было очень мало, спасал лишь маленький огородик, что прабабушка и бабушка выращивали летом и делали самые необходимые заготовки на зиму. Из воспоминаний моей мамы: «В сарайке Жижиных в какой-то момент появился постоялец – ленинградский ученый. Его имя, к сожалению, не сохранилось. Он был настолько худ, что не мог даже пить картофельную воду, что оставалась после готовки. Умер от дистрофии».
Тысячи исковерканных войной судеб прошли перед глазами Пелагеи Николаевны и Галины Васильевны.
Война прошлась по судьбам моих предков, оставив незаживающие раны. Каждая фамилия – Снетковы, Жижины, Котовы – это отдельная глава в летописи войны, переплетенная с общей трагедией страны.
Но, несмотря на все тяготы и лишения, мои предки выстояли. Они сохранили человечность, помогали друг другу, верили в победу. Их истории – это свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности простых людей, на плечи которых легла основная тяжесть войны.
Ольга Снеткова
